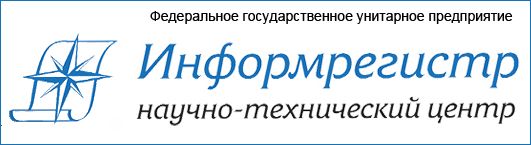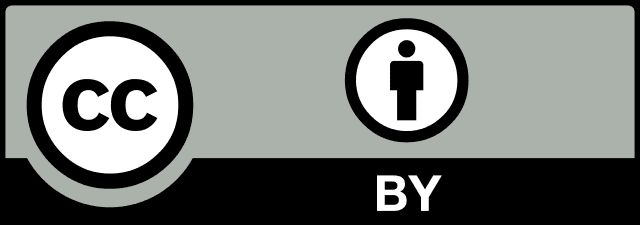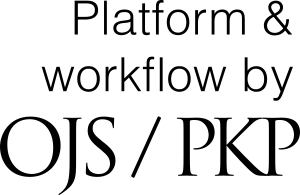Редакция
От Редакционного Совета

DOI: 10.36343/SB.2024.40.4.000
МАЛЫГИНА Ирина Викторовна
заведующая кафедрой мировой культуры Московского
государственного лингвистического университета,
Москва, Российская Федерация
irinamalygina@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-2145-7953
Идея, нарратив, дискурс и интерпретация – эти понятия образуют сложную сеть взаимоотношений, через которую культура конструирует и осмысляет саму себя. В основе любого культурного явления лежит идея – некое абстрактное зерно, требующее оформления в коммуникативную форму. Однако переход от идеи к нарративу невозможен без дискурса – системы языковых и социальных практик, задающих рамки для интерпретации.
Дискурс, по определению Мишеля Фуко, – это не просто речь, но система правил, определяющих состав объектов коммуникации и ее способ [6, с. 48]. В российской традиции эту мысль развивал Ю. М. Лотман, основатель тартуско-московской семиотической школы, рассматривавший культуру как «семиосферу»: пространство, где знаки взаимодействуют, порождая тем самым новые смыслы. Например, в работе «Культура и взрыв» [1] исследователь анализирует, как революционные идеи 1917 года трансформировались в нарративы, популяризировавшиеся советским государством. Абстрактные лозунги о равенстве и справедливости преобразовались в идеологемы о «светлом будущем», которые структурировали общественное сознание через утверждение новых символов и традиций, воплощавшихся в кино, литературе и искусстве. Дискурс революции, первоначально радикальный и хаотичный, кристаллизовался в стройную систему смыслов, интерпретацию социокультурной реальности.
Значительное влияние на развитие современной российской и мировой науки о культуре имеют идеи М. М. Бахтина, чья теория полифонии и карнавализации раскрывает диалектику официального и народного дискурсов. В книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» [2] М. М. Бахтин показывает, как карнавал становится пространством инверсии: смех и телесность низвергают доминирующие нарративы, создавая альтернативные формы смысла. Этот подход применим и к советской культуре: например, анекдоты и частушки 1970–1980-х гг., пародировавшие партийную риторику, были не просто юмором, но актами, переосмысливавшими официальный дискурс через практику интерпретации.
Интерпретация является своеобразным мостом между дискурсом и нарративом. При этом в полном соответствии с законами диалектики дискурс формирует нарратив, а нарратив, в свою очередь, переопределяет дискурс, создавая пространство для новых интерпретаций. Как отмечал Б. А. Успенский, смысл текста всегда зависит от культурного кода, который читатель привносит в процесс декодирования: «Интерпретация есть акт соотнесения текста с внеположенной ему системой кодов» [3, с. 12]. При этом интерпретации одного и того же объекта, созданные с помощью разных декодирующих систем, приводят к совершенно неодинаковым результатам. Например, советские фильмы 1930-х гг., такие как «Чапаев» братьев Васильевых, воспринимались современниками как героические эпосы, но сегодня они читаются иначе – через призму постсоветского социокультурного опыта и связанной с ним деконструкцией мифов. Изменение контекста превращает старый нарратив в новый объект интерпретации, что ярко иллюстрирует диалектику дискурсивных практик.
Современные российские исследования подтверждают эти наблюдения. В частности, проект «Прожито», созданный историком М. А. Мельниченко, представляет собой цифровой архив личных дневников XX в., в котором персональный опыт становится нарративом, вплетенным в коллективную память. Дневник колхозницы 1930-х гг. или воина, сражавшегося на фронтах Великой Отечественной, будучи опубликованными, перестают быть лишь личным текстом — он вступает в диалог с актуальным историческим дискурсом, подчас предлагая альтернативные интерпретации. Это пример того, как практика работы с текстами меняет сам способ конструирования истории.
Современная культурная жизнь России демонстрирует, как старые идеи обретают новые нарративные формы. Ярким примером в данном смысле является выставка «Сокровища Нукуса» (2017), представленная в залах ГМИИ им. Пушкина. Экспозиция включала более 250 произведений из фондов Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. Проект, изначально задуманный как демонстрация межкультурного сотрудничества, стал поводом для дискуссий о специфике сохранения произведений искусства в провинциальных музеях Советского Союза. Кураторы невольно запустили процесс реинтерпретации: зрители и критики обратили внимание на то, сколь уникальны произведения искусства, хранящиеся в периферийных музея России и ближнего зарубежья, и насколько сложным был процесс создания этих коллекций [5]. Таким образом, выставка стала не только культурным событием, но и своеобразным экскурсом в историю музейного дела.
Можно заключить, что диалектика дискурса и интерпретации – это нескончаемый процесс, в котором идеи обретают плоть, а нарративы – новую жизнь. Российская культурология, от Лотмана до современных исследователей, убедительно доказывает, что любой текст или артефакт – не застывший объект, а поле активного взаимодействия смыслов. Любая культурная практика – кино, выставка или цифровой архив – становится лабораторией, где старые дискурсы переплавляются в новые нарративы, а интерпретация выступает инструментом переосмысления реальности. В этом движении от идеи к нарративу – суть динамики культуры, вечно балансирующей между традицией и новацией.
Редакция нашего журнала в заглавной рубрике этого номера решила обратиться к достаточно непростой, но актуальной теме дискурсивных и интерпретационных практик. В статье М. Ю. Парамоновой показано, какой сложный путь прошла интерпретация образов святых, чья историчность не подтверждена или подвергается сомнению. Автор отмечает, что формирование легенды о святом и соответствующей традиции его почитания следует понимать как достаточно медленное (зачастую многовековое) расширение соответствующего нарратива, осуществляемое путем рационализации и историизации. Объектом исследования В. В. Патерыкиной и Н. С. Ищенко является роман братьев Стругацких «Трудно быть богом» и его кинематографические воплощения, интерпретируемые с точки зрения концепции политического гностицизма Эрика Фёгелина. В статье показано, как применение философско-культурологического подхода к анализу произведений Стругацких позволяет раскрыть религиозные корни атеистической идеологии, эксплицируя связь материализма с гностическим дуализмом.
Думается, что оба исследования, представленные в рубрике, раскрывают универсальность дискурсивных практик: будь то формирование сакральных нарративов или деконструкция идеологий через художественные тексты. Научная и методологическая значимость представленных исследований состоит еще и в том, что их авторам удалось показать значение интерпретации как инструмента познания, связывающего прошлое с настоящим, миф – с реальностью, а культурные коды – с их глубинными философскими истоками.
Irina V. MALYGINA
Dr. Sci. (Theory and history of Culture), Prof.,
Moscow State Linguistic University,
Moscow, Russian Federation
irinamalygina@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-2145-7953
Использованная литература:
1. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 272 с.
2. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. 543 с.
2. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. 543 с.
2. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. 543 с.
3. Успенский Б. А. Поэтика композиции. М.: Искусство, 1970. 224 с.
5. Сокровища Нукуса. Беседа на выставке [Электронный ресурс] // Артгид. URL: https://artguide.com/posts/1228 (дата обращения: 15.10.2023).
6. Фуко М. Археология знания / пер. с франц. С. Митина, Д. Стасова. СПб.: Гуманитарная Академия, 2004. 416 с.
References:
11. Lotman, Yu.M. (1992) Kul'tura i vzryv [Culture and Explosion]. Moscow: Gnozis.
2. Bakhtin, M.M. (1965) Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura Srednevekov'ya i Renessansa [The Work of François Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
3. Uspensky, B.A. (1970) Poetika kompozitsii [Poetics of Composition]. Moscow: Iskusstvo.
4. Prozhito: elektronnyy arkhiv lichnykh dnevnikov [Lived Through: Electronic Archive of Personal Diaries] [Online] / ed. Melnichenko, M. Available from: https://prozhito.org. (Accessed: 15.10.2023).
5. Sokrovishcha Nukusa. Beseda na vystavke [Treasures of Nukus. Conversation at the Exhibition]. (2023) Artgid [Artguide] [Online]. Available from: https://artguide.com/posts/1228. (Accessed: 15.10.2023).
6. Foucault, M. (2004) Arkheologiya znaniya [Archaeology of Knowledge]. Saint Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya.